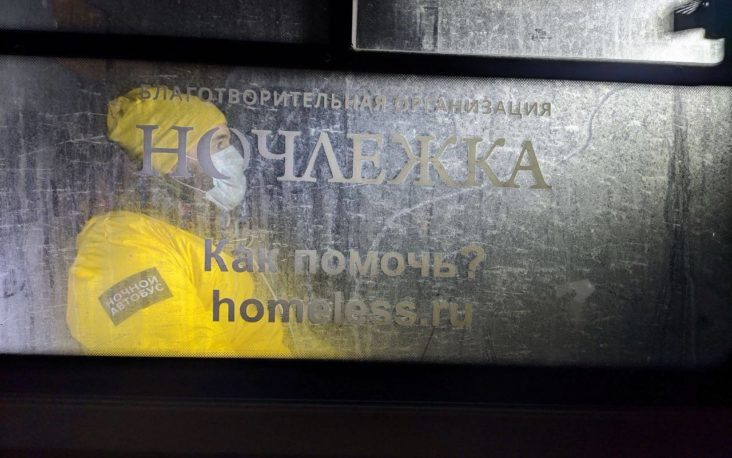— Когда мы натыкаемся на новости или посты в соцсетях про эмиграцию, то чаще всего это либо скандалы, либо какие-то конфликты, либо другой трэш. При этом отдаление между «уехавшими» и «оставшимися» действительно существует и как будто этот разрыв только увеличивается. Нам все труднее говорить на одном языке. Что происходит с людьми, когда они оказались в другой стране и в новой среде? Как меняется их жизнь?
— Я называю это невидимые потери в эмиграции. Есть более очевидные: потеря статуса, денег, но есть и менее заметные, они идут фоном, но все равно сказываются. Например, потеря родного языка. Когда мы переезжаем в страну, языка которой не знаем, мы падаем на уровень ребенка, когда он не может говорить наравне со взрослыми. Конечно, мы не становимся трехлеткой, но часто возникают серьезные проблемы, ведь мы банально не можем сформулировать мысль, объясниться без Google-переводчика, обратиться к кому-то. И это все помимо огромного вороха проблем, которые мигрантам постоянно приходится решать на фоне постоянного напряжения и стресса.
— Бытовые трудности могут серьезно сказываться на нашем состоянии?
— Да, они без сомнения влияют и очень зависят от того, в какую страну человек переехал, в какую культуру, потому что сложности иногда обнаруживаются там, где человек их совершенно не ждет. Как например другое расположения продуктов в супермаркете. Первые две недели после переезда я жила в Казахстане без сливочного масла, потому что не знала, что оно здесь бывает только замороженное и лежит в отделе замороженных продуктов. Я пыталась найти его где-то между молоком и яйцами, и его там не было. И я была слишком уставшей, чтобы обращаться к кому-то из местных за помощью, а консультантов в магазине не было. Это обычные бытовые вещи, которые ты не знаешь, где искать, потому что в твоей стране это было устроено иначе.
Те же сложности и с сервисами: они работают иначе, а объясниться ты не можешь. И это действительно создает фоновое чувство дезориентации. Если посмотреть на каждую такую проблему отдельно, то кажется, что в этом такого? Но если просуммировать все эти задачи и сложить с базовыми трудностями эмиграции: поиск жилья, трудности с деньгами, поиск работы, визовые проблемы, — суммарно это приводит к гигантскому напряжению. Люди часто не фиксируют это: ну подумаешь, рыбу в магазине не смог найти — мелочь. А потом не понимают, почему они на середине дня уже так устали, как будто разгружали вагоны.
— С переездом в другую страну мы лишаемся ощущения базовой безопасности?
— Эмиграция — это утраты буквально на всех уровнях. Не только денег, работы, родного языка и страны. Но в том числе и биографической памяти — связи с каждой улицей, домом в родном городе, где мы провели детство, молодость или значимую часть жизни. Биографическая память — очень большой пласт идентичности и того, что нам создает чувство безопасности, уюта, собственно, чувство дома. Город или район, в которых мы жили, они мне не чужие, они связаны с личными моментами персональной истории. Все это утрачивается при переезде, и мы оказываемся в месте, которое ничего для нас не значит. Оно новое, абсолютно чужое на всех уровнях. С ним нет воспоминаний, ассоциаций. Все это колоссальная утрата. И у нас пропадает статус взрослого человека, который хорошо справляется с жизнью. Мы никогда не справляемся на новом месте так же хорошо, как на старом.
— Чем эти потери могут обернуться? Во что они выливаются?
— У психологов и медиков есть общее понимание, что эмиграция несет высокие риски ментальных заболеваний, либо усиление уже существующих. В основном, это все выливается в депрессивное состояние или в тревожные расстройства. Это происходит из-за того, что ощущение нестабильности буквально угнетает психику и вызывает сильную тревогу.
Наверное, самая большая нагрузка в эмиграции — необходимость постоянно как-то подтверждать, оправдывать, легализовать право на пребывание. Живя в стране, в которой у нас гражданство, мы никогда не ощущали, что нас буквально могут выдворить.
— Слово «усталость» постоянно слышишь в эмиграции, как будто она выдается в пакете вместе с переездом в другую страну. И к тому же эмигранты во многом начинают новую жизнь, буквально с нуля, и многое теряют из-за переезда. Эмиграция — это не отъезд по желанию и за счастьем, это вынужденная мера, наверное, иногда ее можно сравнить почти с беженством.
— Готовясь к интервью, я смотрела определения и разницу между беженцем и эмигрантом. Оказывается, границы очень размыты. Считается, что беженец — это тот, кто уехал в силу независящих от него причин, от опасности, а эмигрант — тот, кто уехал за лучшей жизнью, часто по экономическим, социальным причинам. Беженцы уезжают из-за давления на них, от вооруженных конфликтов, природных катастроф или политического преследования.
Уехавшие из России после 2022 года есть и в той и в другой группе. Одних перевозили работодатели, они уезжали с запасом денег, удаленной работой. Но очень много историй, когда люди уезжали с последними деньгами, устраивались на любую поденную работу.
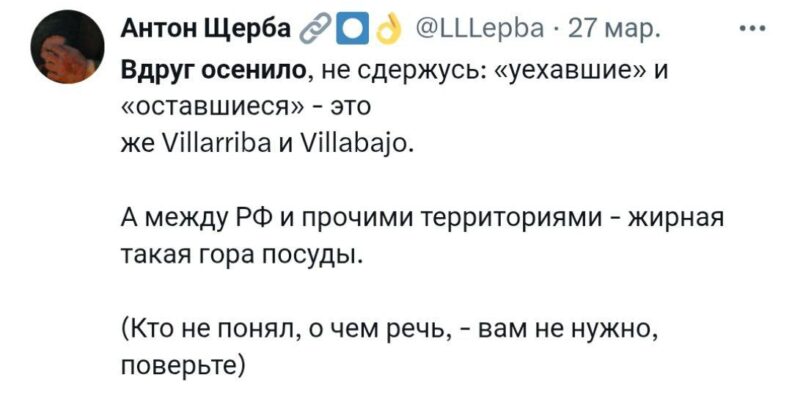
Одно из самых сложных состояний в эмиграции — это горевание. Когда в обычной жизни происходят тяжелые события: умирает близкий, мы расстаемся или разводимся, — у нас есть возможность немного замедлиться и дать себе паузу. У нашего окружения нет ожиданий от нас, что мы будем офигенно справляться, работать также как и раньше, никто не ждет от нас свершений. И мы сами от себя не ждем. А эмиграция — это непризнанное горе, которое происходит на фоне гигантских задач, выстраивания новой жизни. Нам нужно ходить в иммиграционные центры, покупать себе буквально все заново в новое жилье, параллельно еще зарабатывать деньги. Вместо замедления получается, что мы наоборот проживаем горе на фоне ускорения и множества задач. И это дает очень большую нагрузку.
— Весной 2022 года, когда начался массовый отъезд россиян, я прочитал у кого-то очень точный пост, что теперь мы живем временную жизнь, во временных квартирах, с временными друзьями.
— Да, по сути эмигранту приходится жить, понимая, что его нынешнее место пребывания — скорее всего не последняя точка маршрута. С другой стороны, жизнь происходит здесь и сейчас, и хочется обрасти социальными связями, хочется найти новых друзей, с кем-то общаться, найти любимое кафе. Постоянное балансирование между знанием, что ты здесь не навсегда, и тем, что хочется все-таки построить с этой страной, с этим городом, с людьми в нем какие-то стабильные связи.
Бывает, что люди после переезда не обзаводятся в доме нужными бытовыми предметами, думая, что придется снова переезжать. Думают, что осели на полгода, а на самом деле — уже на три года. И все это время живут без важных вещей. И это влияет на качество жизни.
Хотя есть и те, кто решает укореняться. Наверное, это более адаптивный способ. Если человек оседает хотя бы на год, его психике нужны какие-то стабильные точки и мелочи: социальные связи, любимые кафе, любимые парки для прогулок. Даже если нет уверенности, что будешь жить здесь дальше в этой квартире, в этом районе, в этом городе, в этой стране, все равно лучше пытаться укорениться, хотя бы немного: с кем-то подружиться, поизучать это место, получить новый опыт и создать биографические связи с этим местом.
— Важная тема жизни в эмиграции — отсутствие будущего. Его нет. Как и нет понимания, что будет дальше, где окажешься, как будешь жить или выживать. Можно ли жить без будущего и как это делать?
— Ощущение будущего, проекции будущего — это иллюзия, которую строит наша психика. Мы все живем в настоящем и объективно не знаем, что день завтрашний нам готовит, но мы все равно строим планы. Проекция, которую мы называем будущее, — это наша надежда, и осознание того, куда прикладывать усилия. Потеря картины будущего — симптом любого кризиса. Люди испытывают это при при разводе, при любых катастрофах, войнах или в эмиграции. Оказывается, что проекция уже не сбудется, а что будет дальше — непонятно.
Психика очень адаптивна, человек может привыкнуть жить в моменте, если удается выстроить новую хотя бы относительную стабильность на несколько месяцев вперед. Куда я хочу съездить в отпуск в этом году? Посещу ли я это место? Появилась новая компания — через неделю мы вместе пойдем в паб. Такие небольшие робкие ростки планов на будущее, если все благополучно, они заново появляются.
— Еще одно наблюдение: очень многие эмигранты после переезда подбирают с улицы или заводят домашних животных. О чем это говорит?
— Это просто про чувство дома. У многих домашние животные ассоциируются со стабильностью, с тем, что дома тебя кто-то встречает. Это желание воссоздать себе уют, воссоздать привычные, хорошие условия на новом месте. Питомцы дарят много любви и тепла.
— И в то же время у многих регулярно возникает ностальгия, страх, что не вернешься домой, или разочарование, что может быть зря уехал. Насколько это ломает жизнь и можно ли к этому адаптироваться?
— Это возможные ощущения при проживания утраты. Люди по-разному с этим справляются. Кто-то переживает утрату через отрицание, когда говорят: «Я совсем не скучаю, мне вообще нормально». Наверное, есть редкие люди, кто совсем не скучает, но довольно часто это вызвано нежеланием признавать, что эмиграция была сложным выбором. Даже если этот выбор был желанным, у него есть минусы, и человек многое потерял.
Подавление, отрицание грусти часто приводит к высмеиванию или обесцениванию людей, которые ностальгируют: «Если так скучаешь, зачем ты вообще уехала? Если так хорошо на земле обетованной, не хватает березок — езжай обратно». Обычно, такая реакция обесценивания происходит, когда человек не признал эту боль в себе и хочет обесценить ее в других.
— А почему так часто у людей в эмиграции начинает свистеть фляга?
— Большая нагрузка на психику. То, о чем мы говорили раньше: горевание, утрата стабильности и безопасности, нервотрепка с визами, риски потерять работу и так далее. К тому же у человека становится меньше запасных аэродромов — если в родной стране ты вдруг потеряешь работу и не сможешь платить аренду, на улице не окажешься. Поедешь к родителям, да, это будет немного позорно, но угол с диваном тебе выделят. В эмиграции такой возможности нет и это очень сильно бьет по ментальному здоровью.
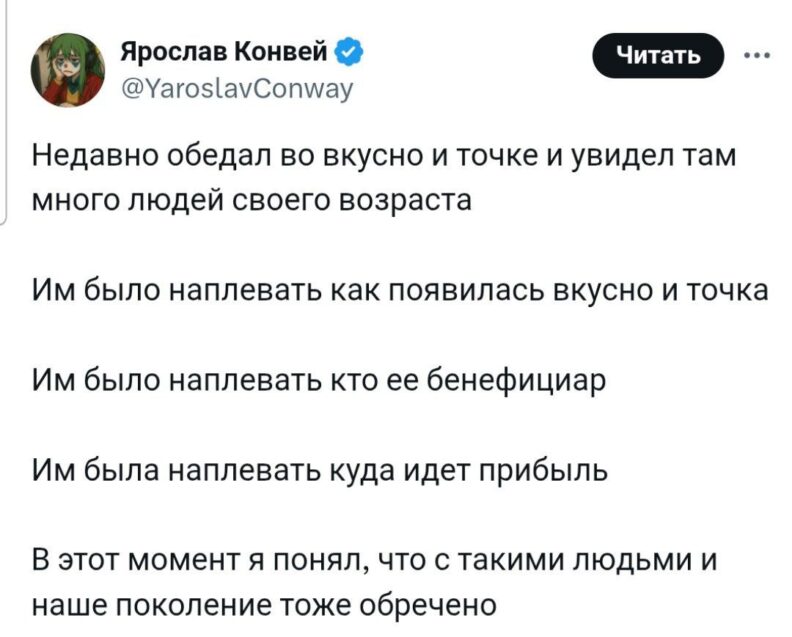
Опять же повышенный риск психических расстройств. Раздражение и радикализация мнений. Откуда берется радикализация: есть такой психологический эффект, когда человек сделал сложный выбор, который предполагает, что в любом случае мы отказались от чего-то важного. И чтобы морально оправдать выбор и облегчить состояние, человек начинает защищать свою точку зрения и обесценивать противоположную. В каком-то смысле это тоже механизм проживания утраты при эмиграции, только не очень здоровый.
Человек начинает обесценивать то, что осталось на родине, ругать и обесценивать людей, которые выбрали остаться, идеализировать страну переезда и так далее. Это немного примитивный защитный механизм, который как будто помогает смягчить боль и сомнения в своем выборе. Ведь любой сложный выбор оставляет и сожаление, и сомнения: а точно ли я правильно поступила? В обратную сторону — от оставшихся к уехавшим — это работает точно так же.
— Срачи между «оставшимися» и «уехавшими» и злорадство по отношению друг к другу уже набили оскомину. Но это размежевание все еще продолжается?
— Это очень болезненный конфликт на многих уровнях. Конечно, если была разница в политических взглядах или ценностях, то переезд их только усилит. Но даже если у людей схожие ценности и взгляды на происходящее, то когда одни уезжают, а другие остаются, начинается рассинхрон и в событиях в жизни, и в проживании опыта. Тяжело всем, но у каждого свои трудности и риски, а когда это давление сильное, то мы становимся более глухи к переживаниям других. Каждому хочется сказать: «Ну, что ты ноешь? У тебя на самом деле все хорошо, ты не знаешь, каково это…»
Люди не вполне понимают трудности друг друга. К тому же они ожидают, что общение будет таким же, как и раньше. Друзья ждут ответа в мессенджерах, они сердятся на твое молчание, думают, что ты ими пренебрегаешь. Очень сложно объяснить, что с бесконечной беготней с миграционными бумажками и кучей работы две недели пролетают как минута. И ты им не отвечаешь не потому, что ими пренебрегаешь. Или когда люди приезжают друг к другу на праздники или в отпуск, есть ожидание, что общение возобновится как прежде и в том же темпе: «Ой, а давай встретимся не сегодня, а послезавтра?» Но у человека нет этих трех дней, он уже улетает. А люди никуда не торопятся, потому что они как жили там, так и остаются, и хотят общаться в таком же неторопливом темпе, будто новых условий нет. Происходит рассинхрон и конфликты.
К тому же может возникать чувство обиды или покинутости от того, что человек уехал. Понятно, что он мог сделать этот выбор не по своей воле, и это был очень трудный выбор, но у друзей остается обида, как будто ты покинул именно их. В некотором смысле это так и есть. И это тоже чувство утраты.

— Обсуждение скандалов, чьих-то ошибок, или просто злорадство над другой жизнью происходит из-за этого же?
— Да, точно так же, как и обесценивание чужого выбора, это может происходить, чтобы сгладить собственные сомнения: «А может, мне тоже надо было уехать или остаться?» И досада, что друзья меня оставили. Все это становится катализатором агрессии.
— И что делать, чтобы не рвать отношения и поддерживать контакт?
— Пандемия ковида приучила нас к разным формам дружбы. У поколения молодых людей есть много способов поддерживать дружбу на расстоянии, что очень выручает. Вот я вижу, что люди играют в видеоигры, например, по дискорду. Многих это поддерживает. Регулярное общение и созвоны в мессенджерах, совместные игры в дискорде, делать что-то еще вместе онлайн.
— Давайте еще поговорим про злорадство. Это очень опасное чувство, которое ведет к расчеловечиванию. Недавно мы разговаривали с Ильей Шепелиным, который исследует российскую пропаганду, и он объяснил, что злорадство — главная эмоция, которую пытается вызвать пропаганда. И это ведет к расчеловечиванию, лишает какой либо эмпатии.
— Хорошее замечание. Мне кажется, злорадство — это следствие расчеловечивания. Мы испытываем эмпатию к кому-то, кого мы тоже считаем человеком, кому можем посочувствовать. Если мы кого-то уже расчеловечили, то можно испытывать к нему злорадство, высмеивать чужую боль и трагедию.
С точки зрения психологии, злорадство опасно тем, что обычно это — замаскированная агрессия. Мы злимся, негодуем, испытываем боль по какому-то поводу, но злорадство становится маскирующей эмоцией, оно вторично. Из-за него мы не признаемся себе в настоящей причине, почему злимся или возмущаемся.
Это как, когда люди следят в соцсетях за теми, кого они терпеть не могут, чтобы позлорадствовать. Значит, у людей внутри тоже есть агрессия, злость, но они ее не признают.
— Вам не кажется, что сейчас расчеловечивание — едва ли не самое страшное, что происходит?
— Расчеловечивание — это часть защитных механизмов психики. Это упрощение картины мира. Поскольку наше сострадание не бесконечно, в какой-то момент оно заканчивается, и мы можем другую сторону конфликта перестать воспринимать как людей. Живых людей, со своей болью, чувствами, сложностями. К жестокости приводит расчеловечивание, когда мы объявляем какую-то группу населения или нацию недостойной жизни. Что их можно убивать или применять к ним насилие.
Военная пропаганда направлена на такое же упрощение картины мира, чтобы люди не соприкасались с кошмаром происходящего. Потому что если признать, что на войне убивают людей, что смерть каждого — это утрата и горе, то мы столкнемся с экзистенциальным ужасом и большой болью.
— И как этому сопротивляться?
— Признать, что каждая жизнь ценна и до какой-то степени соприкасаться с тяжелыми эмоциями. Тут возникает вопрос баланса, потому что часто с расчеловечиванием сталкиваются люди, которые очень много сопереживали и просто выгорели на на этом фоне. Это можно видеть у медиков, у помогающих специалистов, у людей, которые работают в сервисе и постоянно находятся в контакте с другими людьми.
Мы видели в начале войны, когда люди много читали новости, ужасались, а в какой-то момент наступало эмоциональное выгорание, когда агрессию вызывали даже разговоры о происходящем, потому что человек больше не мог страдать и переживать все эти невыносимые эмоции.
Своим клиентам я советую сократить потребление новостей и уменьшить чрезмерное переживание бесконечных невыносимых эмоций.